1
страница
В сегодняшнем выпуске:
Новости дня
Размер компенсаций депортированным остался на уровне
10 тысяч рублей
Гость номера
Профессор
Муса Ибрагимов:
«Наш народ объединит национальная идея»
Сектор детства
Грозненские беспризорники: дети развалин и
дети беды
У малолетних инвалидов ограничены возможности.
У государства тоже
Фоторепортаж
Грозненским ди-джеям - с их внешними данными –
работать на ТВ!
Наши за границей
Чеченцы в Испании
Знаменитые чеченцы
Хасан Орцуев – почетный гражданин Чеченской
Республики №1
Экономика
Угроза лесу исходит от ... негазифицированных сел
Социум
Разрушенная дорога отрезала от внешнего мира
жителей высокогорного села Шарой
Ступени в бездну
На Большой Земле
Ученые восстановили реальное лицо Тутанхамона
Газету "Вечерний Грозный" можно приобрести в Москве.
Обращаться по телефону (095) 982-4299
Главный редактор:
Зарина Амаева
Тел. 8 (928) 737 4389
Адрес редакции:
Грозный, ул. Мира, 52, кв. 63
E-mail: v_grozny@mail.ru
Использование материалов без письменного согласия редакции запрещено.
При цитировании ссылка на газету обязательна.
|
В мире искусства
Спектакль,который не стал премьерой
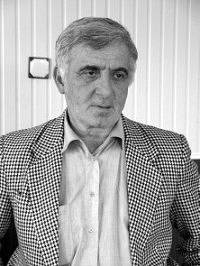 Здание Чеченского
драматического театра им. Х. Нурадилова – в строительных лесах. Восстановление
храма искусства ведется на удивление интенсивными темпами. Куда скромней
обстоят дела с возрождением творческой жизни труппы, некогда считавшейся
одной из лучших на Северном Кавказе. На вопросы «ВГ» ответил заслуженный
деятель искусств ЧР и РФ, народный артист ЧР, главный режиссер Чеченского
драмтеатра им. Х. Нурадилова Руслан Хакишев. Начиная беседу, он остановился
на теме установления взаимосвязей с Мариинским театром Санкт-Петербурга. Здание Чеченского
драматического театра им. Х. Нурадилова – в строительных лесах. Восстановление
храма искусства ведется на удивление интенсивными темпами. Куда скромней
обстоят дела с возрождением творческой жизни труппы, некогда считавшейся
одной из лучших на Северном Кавказе. На вопросы «ВГ» ответил заслуженный
деятель искусств ЧР и РФ, народный артист ЧР, главный режиссер Чеченского
драмтеатра им. Х. Нурадилова Руслан Хакишев. Начиная беседу, он остановился
на теме установления взаимосвязей с Мариинским театром Санкт-Петербурга.
- В мастерских Мариинского театра изготовлены (с использованием новых
технологий) прекрасные декорации для нашего нового спектакля «Скапен,
спаси любовь!». Костюмы для этой же постановки санкт-петербургские коллеги
предоставили нам в качестве благотворительной акции. Кстати, мастерские
Мариинского театра, лучшие в России, выполняют заказы чуть ли не всей
театральной Европы. А с недавних пор художественный руководитель Мариинского
театра Валерий Гергиев, всемирно известный дирижер (кстати, по национальности
осетин), развернул деятельность по внедрению высокой художественной
культуры в театры Северного Кавказа.
Надо сказать, Валерий Гергиев, - один из немногих людей искусства, которые
не остались равнодушными к происходящим в нашей республике событиям
последнего десятилетия. В 1995-м им инициирована акция «Мир Кавказу».
Она состоялась во Владикавказе, когда Гергиев приехал на родину с миротворческой
миссией. А в прошлом году с его стороны в адрес театров северокавказского
региона поступили предложения о сотрудничестве. Мы откликнулись первыми,
чему Валерий Гергиев, как оказалось, очень обрадовался. Так было положено
начало установлению связей Чеченского драматического театра и Мариинского
театра Санкт-Петербурга, к тому же, не ограничившееся технической стороной.
Например, хореографом спектакля «Скапен, спаси любовь!» стал балетмейстер
Валерий Звездочкин. У нас есть все основания надеяться на развитие творческих
взаимосвязей с санкт-петербургскими коллегами. Спектакль не выпускается
по частям и фрагментам.
- В минувшем сезоне зрители так и не увидели спектакль «Скапен,
спаси любовь!». Почему?
- Труппа проделала большую работу – от текстовых репетиций до генеральной.
Спектакль был поставлен актерски, в этом смысле работа завершена, а
вот художественное оформление так и осталось на эскизах. Та же история
с постановками «Два арбуза в одной руке» и «Башни, построенные на льду».
Автор сценической интерпретации произведений Халида Ошаева и Мусы Ахмадова
- режиссер Бай-Али Вахидов. То есть, «заварив» спектакли, коллектив
ушел в отпуск глубокой осенью, надеясь на финансирование, без коего
художественное оформление, то есть завершение работы над постановкой
невозможно.
Приведу пример. Допустим, нам надо сделать 15 костюмов. А что возможно
в существующей финансовой ситуации? Сегодня, извиняюсь, сшить рубашку,
через месяц - рукав пиджака? Потому, что платить начнут лишь через полгода.
И опять же поэтапно, по мелочам. Финансирование расходов на горючее,
связь, оборудование, постановочные тянется месяцами. Только в конце
года накапливается необходимая сумма для реквизита. А спектакль не выпустишь
по частям и фрагментам! Вот на парики мы заняли деньги, они так лежат,
ждут своего часа… И коллектив ждет до сих пор, не получая средств (кроме
зарплаты) даже на бензин.
Пока театр работает на выездах. С детскими спектаклями. Как можно догадаться,
на этом особых средств не соберешь. То есть, в конечном счете, занимаемся
благотворительностью. Выезжаем, допустим, в Шали. Доход от спектакля
– две тысячи рублей. Тысяча уходит на бензин, на подарок арендодателям.
Значит, театру остается тоже тысяча рублей. Ну, смешно это!
Я об этом – об абсолютном невнимании и полном игнорировании Постановления
правительства РФ «О поддержке театрального искусства России» и статьи
«Финансирование спектаклей». В итоге – «незавершенка», хотя с нашей
стороны сделано все и даже больше, если учесть в каких тяжелых условиях
приходится работать и жить.
А жаль. Актеры приезжают на репетиции из сел, где арендуют жилье, потому
что их грозненские дома и квартиры разрушены. Ползарплаты уходит на
дорожные расходы. А зарплата – чуть больше пяти тысяч рублей... Это
у актеров с 30-40-летним стажем работы! У начинающих вовсе одна-две
тысячи.
Я не о жилье. Это другой вопрос - разрушили, так восстанавливайте или
компенсируйте. А как насчет культуры? Почему-то в других республиках
власти помогают театрам, имеющим, между прочим, целые и невредимые здания,
декорации, костюмы. А нам для московских гастролей нужно, как минимум,
тысяч 300, чтобы расплатиться за купленный в долг реквизит, сделать
ботфорты, декорации. И театр остается наедине с этой проблемой. Хотя
до гастрольной поездки осталось совсем немного: премьера нашего спектакля
«Скапен, спаси любовь!» состоится 3 июня в Москве, в Театре Луны.
- Конечно, трудно представить спектакль без декораций, а актеров,
играющих мольеровских героев, – без плащей и шпаг.
- Я углубился в финансовые вопросы, но ведь они решают проблемы, связанные
с выпуском спектаклей. Спектаклей высокого художественного уровня. Другое
дело, средняя постановка. Нам, наверное, она простилась бы. Даже не
придрался бы никто, в том числе Министерство культуры нашей республики.
Скидка на условия – точнее, на отсутствие таковых! Но мы не можем занижать
«планку». Ведь каждый спектакль отражает художественный уровень театра.
Да и не получится - не сумеем.
«Был такой театр…
Есть такой театр!»
- Руслан Шамсудинович, оправдано ли воссоздание русского драматического
театра, когда и в существующем (национальном) творческая жизнь затеплилась,
благодаря неимоверным усилиям коллектива?
- Я вам скажу, в данном случае очень правильный ход был предпринят Минкультом
республики (в лице министра Мовлы Осмаева). Идею поддержала и наша труппа.
Если быть точным, первая попытка воссоздания РДТ относится к 2004 году,
когда у театральных руководителей что-то не удавалось с репертуаром.
Они обратились за помощью ко мне, и я посчитал своим долгом включиться
в работу. Отдавая дань классике, остановил выбор на пьесе великого русского
драматурга Александра Островского. Так началась работа над премьерным
спектаклем «За чем пойдешь, то и найджешь» (по пьесе «Женитьба Бальзаминова»).
Основная сюжетная линия - типичная для всех времен и народов история
молодого человека, жаждущего красивой жизни. Пьеса «За чем пойдешь,
то и найдешь» очень современна, особенно для нашей республики. Она призывает
к нравственности и доброте. Каждый персонаж выписан сочными красками.
Автор осуждает пороки героев. В то же время, ему симпатичны их азартная
романтика, вера в удачу и счастье.
Очень тщательно подбирались музыкальное оформление и пластический рисунок
спектакля. Мы придавали значение каждой детали художественного оформления,
костюмов. Кстати, очень помог нам костюмами Малый театр России, который
по праву называют «Домом Островского». Пользуясь случаем, хотел бы выразить
благодарность художественному руководителю театра Юрию Соломину и давнишнему
другу театров Грозного Подгородинскому.
 - Насколько помню,
постановка на этой же драматургической основе когда-то шла на сцене
Чеченского театра имени Х. Нурадилова. - Насколько помню,
постановка на этой же драматургической основе когда-то шла на сцене
Чеченского театра имени Х. Нурадилова.
- Да, я был режиссером, но это был другой спектакль со своей хореографией
и музыкой, с иными акцентами. Общее в этих постановках – национальный
состав исполнителей. За исключением того, что в современной версии чеченские
актеры играют на русском языке. Играют прекрасно: Нелли Хаджиева, Хамид
Азаев, Раиса Гичаева и другие. Очень талантливо создал образ главного
героя Амран Джамаев. Конечно, сложно и долго мы работали над языком,
чтобы в спектакле зазвучал московский говор.
Национальный состав русского театра? Это типичная картина. В РДТ Черкесска,
где я работал главным режиссером, в труппе из двадцати девяти человек
было лишь двое или трое актеров русской национальности. Остальные –
украинцы, абазины и карачаевцы. Здесь нет ничего необычного: этническая
принадлежность актеров не столь важна. Главное – проникнуться духом
времени и места действия спектакля, не умаляя его современного звучания.
- Что вам известно об актерах РДТ довоенной поры?
- Они работают в российских театрах. Со многими у нас сохранилась связь.
Из Тюмени несколько писем мне прислал Вениамин Панов. А. Михайлушкин
работает в московском театре Российской Армии. Евгений Красницкий, бывший
главный режиссер нашего РДТ – в московском театре им. Гоголя. Слуцкая
и Жирнов? Они жили в Москве. Когда несколько лет назад умерла Слуцкая,
Жирнов ненадолго ее пережил. Они всегда были неразлучной парой.
Надо сказать, воссоздание РДТ было продиктовано не просто желанием вести
какую-то работу. Речь шла о новой и красивой художественной палитре
в театральной жизни нашей республики. К тому же, память о друзьях так
свойственна чеченской душе. А мы действительно были друзьями. В течение
стольких лет (1981-1996) коллективы чеченского и русского театров работали
в одном здании. И - ни одного конфликта! Даже мелкого, что неизбежно
(знаю по другим театрам) при сотворчестве двух и более коллективов в
одном здании. Участие чеченских актеров в спектаклях русских коллег
и наоборот, а также наша режиссура в РДТ были обычным явлением. Помню,
я у них пять спектаклей поставил, Мималт Солцаев – до десятка. Наши
коллективы были очень дружны, искренне радовались творческим удачам
друг друга. Так что, воссоздавая русский театр в Грозном, мы отдаем
дань памяти нашим коллегам и друзьям.
Премьерный показ спектакля «За чем пойдешь, то и найдешь» имел большой
резонанс. Был аншлаг. Возвращению РДТ не меньше, чем мы, актеры, радовались
зрители. «Молодцы, хорошо сделали, что восстанавливаете русский театр»,
- такие были отзывы.
Интересное совпадение случилось в дни премьеры. Состоялась она 9 апреля,
а несколькими днями позже из Москвы пришла телеграмма с приглашением
принять участие в вечере, посвященном грозненскому русскому театру довоенной
поры. Как сообщалось в послании, в московском Доме актера имени Яблочкиной
состоится вечер под названием: «Был такой театр…». Мероприятие пройдет
5 июня (через два дня после гастрольного показа в Москве спектакля нашего
театра «Скапен, спаси любовь!»). Приглашение, повторюсь, мы получили
в середине апреля, то есть к тому времени, когда после года репетиций
состоялась премьера первой постановки нового русского театра в Грозном!
Узнав о том, что театральные актеры в Грозном вновь заговорили на русском
языке, что в Грозном поставлена русская классика, москвичи были изумлены.
Решили скорректировать название вечера. Сказали, что в окончательном
варианте оно прозвучит так: «Был такой театр… Есть такой театр!». Уже
известно, что в мероприятии примут участие Евгений Красницкий, киноактер
Леонид Броневой и другие бывшие актеры грозненского русского театра.
Учиться… у Алисы Фрейндлих
- Вернемся к национальному театру. Насколько известно, мастера
сцены, представляющие среднее актерское поколение, находятся в неплохой
творческой форме?
- Костяк труппы полностью сохранился. Правда, у некоторых из ведущих
актеров проблемы со здоровьем. Муса Дудаев, если помните, перенес инфаркт
во время гастролей в Германии в 1998 году, чуть позже – Дагун Омаев.
Но сейчас они рвутся к работе.
Что касается новых имен, то процесс пополнения творческого коллектива
идет постоянно за счет ежегодного выпуска актерского отделения ЧГУ.
Кроме того, к нам грядет студия «Нахи» из московского Университета Культуры
(курс, которым руководит Мималт Солцаев). Способные ребята, они заканчивают
учебу. В ноябре приедут к нам на практику.
- Почему наши студенты все реже учатся в столичных театральных
вузах? До «Нахов» были две чеченские студии в ГИТИСе имени Луначарского.
Еще раньше, в конце 70-х, около 20 чеченцев и ингушей отучились в Ленинградском
институте театра, музыки и кинематографии. И «москвичи», и «ленинградцы»
- выпускники известных актерских школ. Это – высокий профессиональный
уровень. Не упомню достигшего этой же «планки» актера местного «производства»…
- Конечно, значение образовательного ценза трудно переоценить. Человек,
который выходит на сцену – не просто актер. Он должен быть мудрее и
просвещеннее многих сидящих в зале, особенно в области культуры. Я -
представитель первого поколения чеченских «актеров-ленинградцев». В
институт поступил в 1957 году. В город на Неве мы приехали из мест депортации.
С каким интеллектуальным, культурным багажом? Что мы видели там, в Казахстане
и Киргизии? Степи, верблюдов. Хороших людей. И все. Театров в местах
высылки не было. Единственно доступным для многих из нас видом массового
искусства стало кино. Кинокартины и привили интерес к актерской профессии.
Были мечты о сцене, и, видать, способности. После 13 лет высылки и нескольких
месяцев в Грозном попасть в Ленинград, этот город-музей, было настоящим
везением. В институте преподавали выдающие театральные режиссеры: Георгий
Товстоногов, Николай Акимов, Василий Меркурьев, Владислав Стржельчик,
Марк Сулимов, Евгений Лебедев и другие. Великая школа. (Хорошие педагоги
были и в ГИТИСе, в Тбилисском театральном институте).
Но дело ведь не только в занятиях и педагогах. Согласитесь, учеба актерской
профессии в нашем университете не может дать такого художественного
заряда, который получали мы в студенческие годы. Ведь что значит учиться
в Москве или Санкт-Петербурге? Это слушать лекции по изобразительному
искусству в Эрмитаже или, скажем, Русском музее, непосредственно приобщаться
к творениям великих художников, музыкантов, артистов. Словом, иметь
все условия для развития кругозора, повышения общего культурного уровня.
И, конечно, профессионального. Практика в театрах рядом с актерами,
чьи имена известны всему миру, возможность присутствовать на репетициях
или даже участвовать в них, видеть «живые» спектакли – это особая творческая
среда, соприкосновение с высоким искусством, дающие очень многое для
становления актера.
- Студент театрального вуза на одной сцене с великим артистом
– это, оказывается, и о вас тоже? Имею в виду ваше участие в одном спектакле
с Анной Маньяни…
- В то время я уже учился на режиссерском факультете. Там была прекрасная
система практики в течение всех пяти лет обучения. Причем, участвовали
мы в создании спектакля в самых разных качествах: осветителя, помощника,
ассистента режиссера. Бывало и так, что нам доверяли репетиции, какого-то
фрагмента, мизансцены. Представьте, я, студент, делаю в качестве режиссера
замечания известным артистам. А артисты… Нет, никакого снобизма! Наоборот,
помогали, потому что ты - молодой, начинающий, ты волнуешься...
В Ленинград приезжали известные зарубежные театры из Великобритании,
Италии, Франции. Если бы, отправляясь на гастроли, они брали с собой
статистов, мы, ленинградские студенты, лишились бы возможности наблюдать
игру мэтров мировой сцены. Но везти в Москву исполнителей эпизодических
ролей, вероятно, недешево стоило, и «массовку» знаменитые режиссеры
отбирали в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии.
Мне часто везло – видимо, в силу «типажа». Брюнеты особенно органично
смотрелись в спектаклях итальянского театра. Так вот, меня пригласили
играть в массовке «Ромео и Джульетты». То была постановка Франко Дзефирелли,
великого режиссера с мировым именем. Мои впечатления? Их трудно передать
словами. Открытие, потрясение… Чтобы понять это, надо присутствовать
на репетициях, участвовать в них, видеть глаза итальянских актеров!
Советский театр был более сдержан по форме, актерская игра переносилась
в сферу духовных переживаний. А итальянская школа отличалась раскованностью
и неким своеобразием, особыми, неповторимыми штрихами актерской игры.
Огромной актерской отдачей. Накалом страстей. И абсолютным перевоплощением!
Помню, на первой репетиции «Ромео и Джульетты» мы, студенты, с любопытством
ждали появления актрисы, исполнявшей главную роль. Казалось, мы сразу
узнаем ее, Джульетту! Не узнали. А когда нам показали ее, очень удивились.
Неуклюжая девушка, походка «уточкой»… Невыразительная внешность. Но
как она преобразилась, войдя в роль! Это была одна из лучших Джульетт,
виденных мной на театральной сцене.
И, конечно, Анна Маньяни в одной из знаменитых своих ролей. Спектакль
«Волчица» - об очень сложных взаимоотношениях с окружающим миром женщины,
любящей и закабаленной. В этой постановке я играл маленькую роль – укладывал
стог. На сцене был не столько актером, сколько зрителем. Иначе быть
не могло, когда играешь рядом с Анной Маньяни! Ее глаза, сцена переживаний
и, особенно, истерики… Нет, она не кричала. «Кричали» ее глаза и открытый
рот, из которого не произносилось ни звука! Такова сила настоящего искусства:
оно понятно каждому, все ясно без слов, знание языка совсем не обязательно.
Это были незабываемые уроки актерского мастерства и режиссуры, и вообще
ярчайшие жизненные впечатления.
Я не к тому, что итальянская театральная школа лучше русской, признанной
во всем мире. Речь о разных системах, эстетике, иных средствах художественной
выразительности. Это просто другая школа. И мы, студенты, имели возможность
видеть актерскую «кухню» лучших театров мира. Нашими педагогами, кроме
названных мной, были Иннокентий Смоктуновский, Олег Басилашвили, Павел
Луспекаев, Татьяна Доронина, Алиса Фрейндлих, Игорь Владимиров и другие
великие актеры, на чьих репетициях мы жадно впитывали каждое слово...
В этом особенность и преимущества учебы в театральном институте Москвы
или Санкт-Петербурга: в том, что круг учителей расширяется далеко за
рамки аудиторий.
Возвращаясь к теме, несколько слов об актерском факультете ЧГУ. Я всегда
высказывался в поддержку сохранения актерского факультета в нашем вузе.
Хорошо, что университет так и сделал. Но, к сожалению, очень мало выпускников
идет в театр. Чаще всего молодежь идет работать на ТВ, или вообще выбирает
дело не по профессии. Я так думаю, что это связано с низкой зарплатой
наших актеров.
- Какой вам видится роль театра сегодня?
- Очень важно помочь людям сохранить чувство человеческого достоинства,
доброты, братства. А это непросто в условиях многолетнего пропагандистского
прессинга. Негативный имидж чеченского народа, тиражируемый средствами
массовой информации, отрицательно сказывается и на духовном состоянии
нашего общества. Чего стоят экранные образы чеченцев! Не люди, а монстры…
И чеченская тема муссируется, словно другой проблемы и нет в стране,
где дети за бутылку водки родителей убивают. Люди теряются, не видят
ориентиры. С этой точки зрения трудно переоценить роль театра как средства
выхода из общественного духовного кризиса . Аншлаги на наших спектаклях
– самое яркое свидетельство поиска истины нашим обществом. Я на собственном
опыте убедился в том, что даже сегодня, в наших суровых полувоенных
условиях, люди тянутся к театру. Значит, и театр должен прийти к зрителю.
Беседовала Амина Висаева
|

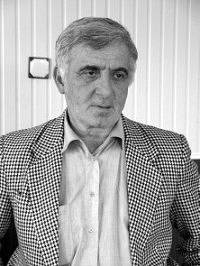 Здание Чеченского
драматического театра им. Х. Нурадилова – в строительных лесах. Восстановление
храма искусства ведется на удивление интенсивными темпами. Куда скромней
обстоят дела с возрождением творческой жизни труппы, некогда считавшейся
одной из лучших на Северном Кавказе. На вопросы «ВГ» ответил заслуженный
деятель искусств ЧР и РФ, народный артист ЧР, главный режиссер Чеченского
драмтеатра им. Х. Нурадилова Руслан Хакишев. Начиная беседу, он остановился
на теме установления взаимосвязей с Мариинским театром Санкт-Петербурга.
Здание Чеченского
драматического театра им. Х. Нурадилова – в строительных лесах. Восстановление
храма искусства ведется на удивление интенсивными темпами. Куда скромней
обстоят дела с возрождением творческой жизни труппы, некогда считавшейся
одной из лучших на Северном Кавказе. На вопросы «ВГ» ответил заслуженный
деятель искусств ЧР и РФ, народный артист ЧР, главный режиссер Чеченского
драмтеатра им. Х. Нурадилова Руслан Хакишев. Начиная беседу, он остановился
на теме установления взаимосвязей с Мариинским театром Санкт-Петербурга. - Насколько помню,
постановка на этой же драматургической основе когда-то шла на сцене
Чеченского театра имени Х. Нурадилова.
- Насколько помню,
постановка на этой же драматургической основе когда-то шла на сцене
Чеченского театра имени Х. Нурадилова.